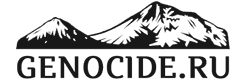Рубен Севак
ПЕСНЬ О ЧЕЛОВЕКЕ
(поэма)
1. В СЕЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ – РОЖДЕНИЕ
2. НА СЕЛЬСКОЙ ДОРОГЕ – ЖИЗНЬ
3. НА СЕЛЬСКОМ КЛАДБИЩЕ – СМЕРТЬ
В СЕЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ – РОЖДЕНИЕ
1.
В тот год, цивилизацию познав
на Западе и от нее устав, -
там человек – машина, совесть – прах,
там мир – завод, гудящий на путях,
любовь – расчет, религия – мошна,
и в счастье драма лишь заключена,
там смерть – нелепость, жизнь – жестокий бой,
там даже время – негодяй седой,
что бьет своим искусным молотком
по мыслям, скрытым за высоким лбом, -
итак, устав, отчаявшись вконец,
как вечный и бессмысленный беглец,
затосковав по отчей старине,
душою устремился я к родне,
в восточное село меж горных гряд,
где ладана струился аромат.
2.
Я с матерью вошел в церковный сад,
остановился у высоких врат.
Смеетесь вы? У вас один пример –
Лукреций, Эпикур или Вольтер,
добавим стопку непонятных книг,
в чьи ветхие страницы скептик вник, -
мать свято верит богу своему –
над ней не дам смеяться никому:
ей мало жить осталось на земле,
чай подойдет – и скроется во мгле.
Старушка мать стоит одной ногой
в часовне и на кладбище – другой,
и для нее всевышний добрый Бог –
как беспредельной правоты порог.
Лишь муки она знала до сих пор,
надеется на честный приговор.
3.
Вы все – Вольтер, Гораций и Зенон –
кем ни были б – из канувших времен,
вы в прошлом все… Тогда как тыщи лет,
с тех пор как существует белый свет,
склоняются в молитвах тьмы людей.
Я с верой пошатнувшейся своей
Не посмеюсь в гордыне чувств пустых
над тем, что свято для людей других, -
среди колонн Карнака или там,
где встал язычества старинный храм,
там, где огнепоклонников холмы,
там, где сивиллы пламя среди тьмы,
где жертвенников ассирийских ряд,
где церкви христианские стоят…
снимите шляпы, ибо там народ
ковал свои надежды, свой оплот, -
там – кладбище живущих…
4.
Вошел в церквушку я, склонясь слегка.
Она была мала, но широка,
но в ней вмещались Бог и вечный срок…
Покорно камень в ней на камень лег,
лег безыскусно, так, как из земли
деревья молча б вырасти смогли.
Подсвечник, крест и темная скамья
струили дух иного бытия…
И с жалких канделябров по углам
свисало Время, как покойник там
дремало Время испокон веков
под звон кадильных бубенцов.
И не было в церквушки суеты
и были лишь безбожности черты,
лишь Бесконечности глубокой гладь,
где пахари учились умирать…
5.
В тот день народ в свой сельский храм спешил, -
отец вельможный отпрыска крестил,
а для деревни это торжество
такое же, как праздник Рождество
для коренных назаретян… Дивись –
и стар и млад в церквушке собрались.
И слово, из всех стараясь сил,
в честь праздника поп сельский сочинил.
Поп не прославился как златоуст,
но был с душою, полный чистых чувств,
умел читать и знал родной язык
и этим уважения достиг.
В миру был плотником, застенчив, тих,
точь-в-точь Марии девственный жених.
Так риза шла ему и борода,
как будто бы он с ними жил всегда!..
6.
Он встал у алтаря меж двух свечей
и речь держал. Внимали люди ей:
он проповедью в благость повергал,
хоть речи смысл никто не понимал…
Псалом есть «Умножайтесь». Тот псалом
для проповеди взят святым отцом –
«Пусть будет много у людей детей,
как у оливы множество ветвей».
Вдруг вздрогнул я, смущен и удивлен:
тот имя произнес «Наполеон!..»
В церквушке, затерявшейся в горах,
звучит «Наполеон!» – и в сердце страх,
Ведь призывал тот, состраданья чужд,
растить детей для новых ратных нужд.
Он жаждал, чтоб войско новое пришло
Таскать оружья из села в село…
7.
При выходе из церкви в час дневной
два шествия столкнулись меж собой.
Нет, вовсе не одна из тех картин,
где встреча смерти с радостью крестин,
где празднество рождения и прах,
что равно держит Бог в своих руках…
Два шествия. И в каждом – каждый рад.
В одном – младенец с первых дней богат,
в другом – дитя бездомной нищеты,
сошлись богатства, бедности черты.
Богатый мальчик – в кружевах чепца,
а бедному – лохмотья от отца,
богатого – одел в шелка отец,
а бедного – терновый ждет венец,
один – уж власть, другой же – вьючный скот.
И судьбы их известны наперед.
8.
Но есть один таинственный закон,
в том суть его, что семя наглых он
способен в чреве чем-то поражать,
стремясь, быть может, судьбы уровнять.
И чахнут мстительные семена
в утробе – бледность в их ростках видна.
трат не жалеет богатый отец,
ему покорен золотой телец,
но он ласкает хилого сынка,
затянутого в нежные шелка.
А сколько бедных молодых людей,
друг друга полюбив душою всей,
друг к другу словно молнии влечась,
забыв, что им сулит грядущий час,
великих исполинов создают,
свой клятый жребий им передают…
9.
Испуганный, я вспомнил, поражен,
что был спартанский варварский закон:
слаборожденных в бездну темных вод
бросали, зная, что их гибель ждет.
Столетия уж с тех пор прошли,
и мы чудовищ равными сочли
себе, решив, что чувства есть у них
и право есть на жизнь в кругах земных.
Неважно, что за ними смерть стоит
и что закон для них – надежный щит…
Я красный занавес не подниму
(закон – вот имя данное ему),
чтоб увидать непокорных там,
упрятанных по каменным мешкам
и отданных жестоко палачу
за то, что восклицали: «Жить хочу!»
10.
А я глядел на тех и на других.
Не говорите больше слов пустых
о крови чистой, крови голубой,
о чести, что привносится семьей.
Вот два новорожденных. Как жучки.
Убить их смогут ветки и сучки.
Хотят дать имена им. Смысл какой?
Ведь каждый наречен уже судьбой.
Один есть Раб. Другой есть Власть.
«Нет сил у ящерки бескровной», - так судил
мой собеседник. Но зачем шакал
о крови ненасытно возалкал?
Тот, кто есть власть, - не черствым хлебом сыт
в чужую плоть свои клыки вонзит.
Закон – его надежда и оплот.
Он станет князем, - так ликуй, народ!..
11.
Забилось сердце птицею в силках,
и дрожь мне не унять в своих ногах.
в мозгу возникло множество картин:
вот виселицы повреди равнин,
как кипарисы… И в глухой дали
пожаров отблеск на челе земли.
Там тесным строем легион рабов
идет, свергая идолов, богов,
князей, хозяев, чья казна полна,
идет и сеет братства семена
и делит равно хлеб среди людей…
Слеза скатилась по щеке моей.
Открыл глаза… Виденье лишь одно.
Все разошлись, и в церковке темно…
Путь утешенья моего был прост –
на поле равенства шел, на погост…
НА СЕЛЬСКОЙ ДОРОГЕ – ЖИЗНЬ
1.
На камне, у дороги, что вела
на кладбище от церкви и села,
я, человек Востока, моча сел,
с тоскою и печалью я смотрел
в тот тихий и мистический простор,
что волю и молчание простер.
Там, где лазурь небесный свет струит,
без боли, без улыбки, без обид
селились люди, травы, муравьи,
не ведая ни гнева, ни любви…
Там Неподвижности закон царил, -
без роста, без улыбок и без крыл,
сближая бесконечные миры,
там жили люди… с давней той поры
надменный Запад презирали там…
Молчанья даль, открытая очам!..
2.
Кадильница огромная – Земля,
мечтаньями свой разум утоля,
дымила скукой, как молитвой длинной,
в неторопливости спокойной, чинной.
Там небеса с безоблачных высот
на землю падали от их щедрот
благословеньем вечности святой,
как дождик мелкий, дождик золотой…
Там под огнем полуденных лучей,
меж стелющихся на ветру полей,
где лепится, как гнезда, хижин ряд,
где траурно развалины торчат, -
витала отрешенность бытия,
от жизни отторженья не тая,
но связанная с Прошлым и Мечтой…
Смерть отрицалась Смертью же самой…
3.
Мысль Запада вслед слову «Жизнь» всерьез
вычерчивает лишь одно – вопрос, -
у нас иные мысли и умы –
вслед слову «Жизнь» три точки ставим мы…
Когда на Западе и гул, и гам
и расчленяют душу по частям,
исследуют и бога, и святых –
мы думаем о точках лишь своих…
Когда на Западе надменно мыслят, мы
роняем слезы, ибо знаем мы,
что нераздельны с небом и землей,
мы – колыбель меж ночью и зарей
качающаяся. Негасимый свет
в могиле гаснет и теряет след…
Напомнит плач, пронзая скорбь и тишь,
кем ни были б – мы люди, люди лишь…
4.
Так жили в прошлом, так живут сейчас
сыны Востока в жизни краткий час.
В дыму благоуханий дорогих
неведомы прозрачным душам их
бряцанье софистических наук
и славы в грубой тоге ложный звук…
Они прошли по Жизни, ни о чем
Жизнь не просили на пути своем.
Дно Жизни их к себе не завлекло
скользили, как бесшумное весло…
И опьянялись ясно, до конца,
и плакали их верные сердца…
Они родили дивные края:
Эдем, нирвану – мир небытия, -
Христа… И родовые муки их
легли как Смерть среди дорог земных…
5.
Они взирали на прогресс и жизнь
как бы на некий сложный механизм.
Так на поляне, тихой и лесной,
олень, качнув ветвистой головой,
глядит на фыркающий паровоз.
В его мечтательных глазах вопрос:
«Куда неведомое существо
спешит, само не зная для чего?»
Кто ранее, кто позже, но все мы
дойдем бесспорно до могильной тьмы…
Вот жизнь: за ложью набегает ложь,
одна закончится – с другой живешь.
Рождаемся, как волны, в бездне вод,
и каждый гордо в полный рост встает,
но только пеной обросли морской,
как исчезаем в мг последний свой…
6.
И так должно из Жизни все уйти…
Я с камня возле самого пути
глядел на путь, отчаявшийся путь, -
он мне раскрыл времен минувших суть…
Ах, этот путь извилистый, в камнях,
бегущий вечно, поднимая прах,
родной мой путь, ты – колыбель людей,
рожденный в темной глуби первых дней.
По лону древней, выжженной земли
от Гималаев до Ирана шли,
от Арарата до Босфора шли,
до ясных вечных вод Дуная шли,
во все четыре стороны Земли
шли Человечества отцы в пыли,
вдоль опаленной полдням и лозы
тянулись их скрипучие возы!..
7.
Впервые боль мою стеснила грудь,
и застонал я, вглядываясь в путь…
И ужаснулся я, и прах с пути
взял в горсть свою. И прах темнел в горсти…
О, сколько жизней, вспыхнувших в веках,
таил в себе дорожный этот прах!
О, сколько человеческих костей
в прах превратилось за мильоны дней!
И в этом прахе я себя узнал:
вот – космами обросший житель скал,
а вот – в доспехах молодой стрелок,
а вот – я царь, - весь мир лежит у ног, -
а вот – я пленник с бритой головой,
а вот – певец с чарующей струной,
я нынче – тень без воли и примет,
не человек, не Бог и не поэт!
8.
Вот –Соломон. А вот – из древних стран
везет алоэ царский караван…
Несет верблюды на спине своей
от Ганга – пряность, россыпи камней,
от моря Красного – кораллов клад,
а из Дамаска – шелковый наряд
в дар Клеопатре – свету всех светил…
Эдема чудо там я пережил,
пьянящее мой дух из тьмы веков, -
красу Семирамидиных садов.
Сквозь страх я слышал голос без помех, -
то Марк Антоний, ввергнутый во грех,
продавший сладострастию свой щит.
И не один народ, что мглою скрыт,
со мною говорил, погибнув зря
по прихоти какого-то царя…
9.
Меня рука коснулась, тяжела.
Душа от сновидений отошла.
Крестьянин с опечаленным челом.
«Скажи, как звать тебя?» – «Зовусь
Трудом…»
- «Что делаешь тут?» – «Нищенствую я».
И молча удалился.
Скорбь тая,
пошел за ним до дома я сквозь мглу…
С открытыми глазами, на полу
лежала при смерти его жена,
и, задыхаясь, мучила она.
Принес малыш, смышленый мальчуган,
чтобы я сел, рассохшийся чурбан.
Отец сказал: «Без хлеба дом держу,
ведь на работу я не выхожу,
вдруг отойдет она к исходу дня…
Кто ей глаза закроет без меня?..»
10.
И, как на бога, скорбная жена
на мужа смотрит, кротостью полна.
В любви совместной жизнь их протекла,
хоть скудно жили, жизнь была светла.
И не было у них обид и ссор,
и не делили ни добро, ни двор.
Хозяйка домовитою была:
постель тепла, хлеб посреди стола.
Но неотменно повелел господь
в могиле успокоить ее плоть.
Она успела мужу наказать,
кого ему в деревне в жены взять,
чтобы прилежной новая жена
была б и чтоб заботилась она
о сиротах и муже, чтоб телка
выхаживала в поле до годка.
11.
В раздумье о загадках бытия
дрожащим этот дом покинул я.
Я размышлял о том, что человек,
как раб, охотней нищенствует век,
чем дедовским отточенным ножом –
хоть и шутя – сверкнет пред богачом,
чтоб позолоченных пугнуть богов!..
Я размышлял о том, что не готов
соперничать с Богатством хилый Труд…
Я размышлял о том, что власть берут
«всевышних» сонм – бескровных, злых, пустых,
и шар земной покорен воли их…
Я размышлял о силе, о шуте
(что мы зовем законом в простоте…)
Путь утешенья моего был прост –
на поле равенства шел – на погост.
НА СЕЛЬСКОМ КЛАДБИЩЕ – СМЕРТЬ
1.
Когда скептически, улыбки не тая,
ты допивал осадок Бытия,
когда искуснику служил, а он
природою был Горем наречен,
когда познал Любовь в часы зари,
когда познал не внешне – изнутри
историю народов и проник
в претенциозное искусство книг,
когда узнал: в заносчивых сердцах
скорбь – по минувшему, перед грядущим –
страх,
когда ты, чтоб истину найти,
исследовал небесные пути
(обитель вечную былых богов), -
уверился, что нет иных краев,
которым быть милее для души,
чем кладбище убогое в тиши…
2.
Я на кладбищенскую сел плиту.
Могил обозревая пустоту,
напрасно думал, что сей уголок
избрал себе жестокий – Бог,
чтобы наказывать сурово Зло,
чтобы Добро вознаграждать светло…
В сад смерти углубляясь не спеша,
я зря твердил: «Бессмертная душа!..»
Бессмертье! Но мелькнул на тебе свет –
в прах превратились тысячи комет
и в сонме звезд тускнеет свет лучей,
в ночи затих последний соловей,
и бездыханны звери и трава!
Повсюду Смерть берет свои права…
Гость неба – человек – скорбит давно.
Бессмертье! Сколько длится? Где оно?
3.
Откуда ж в человеческой душе
надежда? Даже в миг, когда уже
земля срывает неподвижный прах,
мечтает человек, чтоб жить в веках.
Зачем, когда он превратится в тлен,
когда он попадает Смерти в плен,
надежду на Бессмертие таит?..
Когда козел с утеса вниз глядит
в бездонный, головокружащий ров;
когда из-за разросшихся кустов
волчонок видит волка смертный час;
когда шакал, в пучину погрузясь,
захлебываясь, тонет, присмирев;
когда перед закатом грустный лев
последний рык издаст, таясь в тени, -
не о бессмертье думают они…
4.
Наш бедный пращур, человек Адам,
был беззащитен, безоружен сам,
перед лицом стихии неземной
он не считался со своей душой, -
презрел бессмертье пращур в свой черед,
дабы вкусить запретный сладкий плод.
Под тяжкой ношей в пятьдесят веков
старели люди всех материков.
Мозг человека был пытлив и смел
и потому всем сущим овладел,
нашел себе рабов среди зверей,
проникнул в тайны звезд, небес, морей
и возвеличил множество богов,
чтобы низвергнуть их в конце концов,
с Природой стал, как равный говорить,
а нынче хочет Время покорить…
5.
Мечтает быть бессмертным человек,
Не отличая от минуты век,
как время, мучаться, грустить, тужить,
но бесконечно, бесконечно жить…
Пусть валит с ног усталость, плоть больна, -
была бы лишь навечно жизнь дана…
Быть травкою без глаз, без языка, -
лишь жить бы в бесконечности века…
Быть мертвым камнем, голою скалой,
быть речкою с болтливою волной,
лишь жить бы не смирясь со смертным сном…
Обожествленный человек, стыдись,
в своем высокомерии уймись,
ты все отдашь, чтоб жизнь не прервалась…
Взгляни на желтый лист в осенний час!
6.
Твердят: наука новая дотла
все летописи старые сожгла,
материя лишь вечна, но мертва
душа, - не верьте, люди, в те слова!
Пусть мумии египетских песков
раскроют тайны канувших веков.
на Парфенон взгляни, бессмертных сонм
кичится вновь, взойдя на Парфенон,
но даже муж, прозревший идеал,
за старую бы жизнь свою отдал…
Есть Жизнь. Есть Смерть. Борьба их все лютей!
и даже самый умный средь людей,
увидев Смерть, взмахнувшею косой
над милой и кудрявой головой, -
сжав горло Смерти из последних сил,
как бешеную тварь бы удушил…
7.
«Как бешеную тварь…» Нет, слаб язык…
Я помню, как к подушке друг приник,
слезами орошал ее, рыдал,
свет завтрашнего солнца призывал, -
а солнцу для него уж не светить, -
так тщетно он пытался жизнь продлить,
с постели встать… Сквозь стоны и сквозь сны
он прижимался к белизне стены,
и ужас неподдельный был в глазах…
«Я здесь!» – вскричал я, ощущая страх.
Тянулся он к глазам моим рукой,
я жил, а он стоял пред вечной тьмой…
«Я понял жест последний твой, мой друг…
Но я боялся смерти, этих рук:
любовь как ложь… Мы родились на свет,
а возле колыбели Смерти след…»
8.
Как птица, раненная влет стрелой,
цепляется за воздух над землей,
как утопающий, схватившийся за круг,
но все равно на дно идущий вдруг,
как умирающий орел в горах
за камень держится, а смерть в глазах,
так друг, совсем бессильный, чуть живой,
припал к подушке слабой головой…
Быть пригвожденным к ложу, гнить и преть –
как хорошо! Лишь бы не умереть…
За жизнь свою он бился не смыкая глаз,
кровь горлом хлынула в смертельный час…
А что оставить на земле он смог?
«Остались мы», - сказали Прах и Бог.
Рифмую у кладбищенской плиты,
слова мои бесчувственны, пусты.
9.
Я оглядел зеленый этот край,
и с дрожью я подумал невзначай
о страшном аде Данте-старика…
Вокруг меня как бы исподтишка
кружиться начал рой существ людских,
с открытыми устами и немых,
в тьме, обжигавшей жаром горячо!
О дьяволе подумал я еще,
что Мильтоном, незрячим мудрецом,
провозглашен владыкой и творцом, -
трезубец Дьявола весь род людской
приводит в беспокойство день-деньской…
Еще подумал я о Грозном дне, -
вот зарокочут трубы в вышине,
На небо хлынут сонмы мертвецов…
Не лишком ли для нас, в конце концов?
10.
Людская совесть, мучаясь впотьмах,
измыслила и ужасы, и страх,
и рай для мертвецов в святом саду,
и дьявольских мучений череду!
Но тяжести я здесь не испытал,
жизнь – медленно вкушаемый бокал
безделья без резьбы и новизны,
без красок, чьей игрой мы пленены…
Здесь розы облетают на кустах,
бутон от жажды потемнел, зачах.
А если вопль раздастся в тьме ночной –
знай: крик совы над гробовой плитой.
А если тень мелькает наяву –
знай: скот на пастбище жует траву.
А если разрывают прах и тлен –
знай: дело виршеплета и гиен.
11.
Склонился грустно я и уловил
вдруг голос, исходящий из могил:
«Твой брат я и сестра я в тот же час;
вселенной я слепой огромный глаз;
аз есмь всему начало и конец;
я пропасть и цветущих нив венец;
я тот, кто породил тебя, я – тот,
кто от тебя на свет произойдет;
я тот, кого все благом назовут;
тот, от кого все в стороны бегут,
но им не убежать. Прощаю я
тех, кто питал надежды на меня,
и тех, кто издевался надо мной.
Все равно порастут моей травой…
И косит мир моя коса, звеня…
Мне имя – СМЕРЬ, но БОГОМ звать меня…»
1909г., Лозанна.
Также по теме:
Поэзия Сиаманто